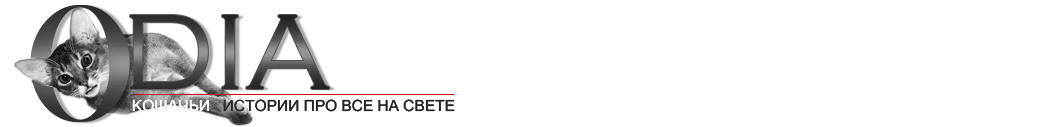Я сижу на каменном молу и думаю о том, как буду добираться обратно. Мне страшно. Он меня дразнил все две недели — обманчивая близость каменной насыпи, отделяющей волнующееся море от тихой бухточки при отеле. Тут неглубоко — в середине тихой заводи я даже могу встать на самые кончики пальцев. А дальше, наверное, примерно так же, там еще темным полем водоросли растут. Я должна добраться до этой границы.
Плаваю я очень плохо. С тех пор, как в 17 лет тонула, остался первобытный страх перед водой. Я помню, как думала о том, насколько смешной и нелепой будет эта смерть в 20 метрах от берега — просто потому что я, дуреха, не рассчитала сил и решила, что по камешкам доберусь до берега, если вдруг устану. Тут же рукой подать. А до камешков, как оказалось, метра два глубины. И усталость — потому что даже мои, тренированные многочасовыми распевками легкие перестали справляться. Про руки вообще молчу.
Я опускаюсь на дно и понимаю, что это последняя попытка — у меня больше нет сил. И если я сейчас не догребу до этого чертового берега, то все. В такой вот жаркий июльский полдень 1994 года. Помню, на меня долго смотрел какой-то мужик — никак не мог понять, нужно спасать или нет. А я о помощи просить не буду. Да и не смогла бы — это вранье, что утопающие машут руками и орут. Сил нет на это.
Еще одна попытка. Отчаянная. Соль то ли от воды, то ли от слез, то ли кровь — я помню металлическое ощущение во рту. Дно. И я могу, стоя на кончиках пальцев, вытянувшись во весь рост, глотнуть воздуха. Господи.
Я упала на берегу, даже не сумев выбраться на сухой песок. Просто прийти в себя. Отплакать. Отдрожать нервной крупной дрожью. И, на подгибающихся от усталости и стресса ногах дойти до компании друзей. Ничего не рассказав об этом страхе.
***
Обо всем этом я думаю сейчас, в 41 год, жарким августовским полднем 2018 года. Сидя на скользких валунах мола и понимая, что мне очень страшно. Страшно, потому что оказалось, дна там на мой рост нет. А плыть надо много. По моим меркам невыносимо много. И надо заставить себя решиться — в очередной раз хотела всему миру доказать, что я смогу (вообще, просто перепугалась за детей, которые ломанулись на эту насыпь с грацией стайки каланов), плохо отдавая отчет в том, насколько это для меня опасно. Потому что теперь еще и кривые не такие.
Дети давно унеслись к берегу — с той же непостижимой для меня легкостью. А я набираюсь решимости. Отдохнула. Пора.
Подо мной темное дно — там водоросли. Считаю. До десяти. Руки. Ноги. Расслабиться. Еще раз. До десяти. Руки. Ноги. Расслабиться. Дышать. Волна дикого страха. Мне страшно. Мне очень страшно, потому что я не двигаюсь вперед — подо мной беспросветная темнота и глубина — я знаю, что для меня там дна нет. Страх перерастает в панику — такую, когда начинаешь задыхаться и захлебываться, гребки становятся хаотичными и я опять вспоминаю июль 24 года назад. Держаться. Страшно. Я оглядываюсь — эти чертовы камни не отпускают. Поскуливаю от ужаса и осознания перспективы нелепой смерти в последний день отпуска. Впереди пляж, сонм купающихся, гул радостной толпы. Тут я — одна. Сражаюсь с собой и своей паникой. Считать. До десяти. Дышать. Чем чаще дышишь — тем сильнее нагружаешь сердце. Черт. Только не это. Не думать. Дышать. Дышать. Медленно. Руки. Ноги.
Дно резко светлеет — полоса водорослей кончилась внезапно. Облегчение. И недоверие. На всякий, из последних сил, доплываю до ближайшей белой шляпы. Осторожно пробую дно. Очень осторожно. Выдох. Я сделала это. На фига?
Дальше пляж и осознание собственной глупости.
***
Ябоюсь — это мое личное животное. Ябоюсь живет со мной всегда — с момента, когда я поняла, что он есть. Мне было года два. Ябоюсь появился внезапно — в бабушкиной квартире. Мне всегда в ней было неуютно и я думаю, во многом это связано с горем и моей обостренной чувствительностью. Я не знала, что в ней умер дедушка, мне не говорили, сколько он мучился перед смертью. Но именно тогда, когда я оставалась ночевать у бабушки, на меня накатывали дикие волны удушающего ябоюся. До истерик, слез и просьб немедленно отвести меня домой. К родителям. В мою комнату — где тоже был ябоюсь, но он был свой, домашний. Его можно было укротить простой песенкой, которую я напевала про себя, засыпая.
Ябоюсь во мне разный. Раньше с ним было проще. Пока я не поняла, что мир неустроен и достаточно жесток. С тех пор, например, ябоюсь болезни — мой личный ябоюсь связан с онкологией, особенно в моменты, когда тебя обнимает в поисках поддержки женщина с таким же жутким персональным ябоюсем. Только у нее ябоюсь физически ощутимой смерти — мучительной и страшной. А разница у нас всего 4 года. Ябоюсь — медленно умирающая в 41 год подруга. И ее последний пост — я вас всех люблю. И смерть через 10 минут. Ябоюсь стать овощем — настолько, что ношу записку, в которой прошу отключить меня от аппаратов. Если что.
Ябоюсь темноты и неизвестности. Еще один ябоюсь, с неустроенностью и неуверенностью, особенно усугубляется с возрастом, этот чертов ябоюсь. Еще один внезапный ябоюсь за детей. Мать из меня так себе, но мысли о том, что, не дай бог, может случиться — боже, какой же ужасный этот ябоюсь. Этот ябоюсь заставляет иногда держать дистанцию подальше — чтобы не сильно любить. Потому что самое дорогое обычно отбирают первым.
Эта бесконечная борьба с ябоюсем — ябоюсь помешать, ябоюсь спугнуть. Ябоюсь предрассветных, немых и черно-белых часов тоже мерзок. Вся осень — ябоюсь.
И это все же не борьба с животным. Оно все равно есть — как неизбежный фон. Ни один психолог не научит справляться с ябоюсь молчания. Потому что родом из детства — когда в назидание тебя начинали игнорировать. С этим ябоюсем просто нужно научиться жить. Мне 41 год. А ябоюсь молчанки, как будто мне пять лет.
Есть еще один ябоюсь. С которым я могу справиться со всем миром. Этот ябоюсь самый опасный из всех. Ябоюсь своего гнева. Потому что этот ябоюсь незаметен никому, он глубоко внутри. Но когда он закипает, отыграть назад уже невозможно.
А еще ябоюсь что про этот ябоюсь кто-то узнает.